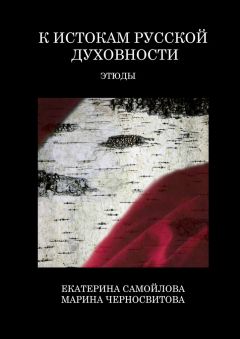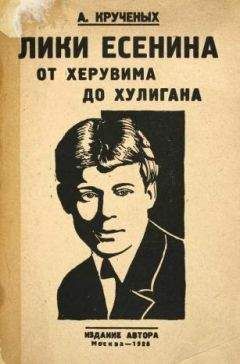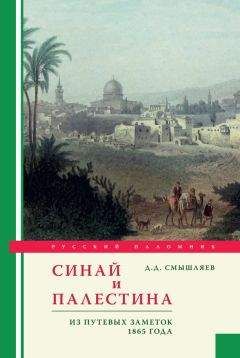Конечно же, речь идет о народности и духовности нашей, когда В. М. Шукшин оперирует понятиями «город», «деревня», «крестьянский род», «земля», «интеллигент». И здесь, попутно скажем, и такими понятиями, как мода и обычай (читай: «Мода – это чисто человеческое „изобретение“, возникло с людьми и с людьми умрет… там, где решаются коренные вопросы бытия, мода молчит», «Обычай не придумаешь, это невозможно»).
В «Слове о «малой родине» (1973 г.) он, в частности, пишет: «Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с Родины (понятно, что я имею в виду так называемую «малую родину»)11 – а таких много, – невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусть. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит». Да, здесь точно подмечено, откуда в человеческой душе начинается опустошение. Доведем до логического конца эту мысль Василия Макаровича – «душевное опустошение, бездуховность есть следствие разрыва с «мало родиной». В другом месте, в связи с раскрытием образа Егора Прокудина, он называет это «предательством» («…ушел от корней, ушел от истоков, ушел от матери… И, таким образом, уйдя – предал» («Я родом из деревни»).
Шукшин, касаясь «деревенской» темы, уходит в философские, глубинные основы бытия. Россия, духовность наша, приобретают у него Вселенский смысл. Место и время при этом играют роль второстепенную. Пространственно-временное и событийное оформление многих деревенских рассказов, при внимательном их прочтении, всего лишь мизансцена, на которой вновь и вновь выступают извечные человеческие конфликты… с бытием, богом, совестью и человека с человеком («Лично я старался рассказать про события. Они что? Они с нами происходят каждый день. А сами с собой мы остаемся пореже»).
В рассказе «Хозяин бани и огорода» два деревенских мужика перед субботней баней вдруг начинают говорить о смерти. «Хозяин» затевает этот разговор – его интересует его собственная смерть. Бытовая сторона смерти, похороны описываются в спокойном повествовательном тоне. И до конца рассказа, до самого последнего слова в этом рассказе мы и не догадываемся, что «хозяин» по своему положению в мире давно мертвец. Мертвая душа – все душа. А здесь – мертвое тело, то есть труп (кадавр, как говорили древние греки, четко различая мертвую душу, мертвеца-для-самого-себя, от мертвого тела, мертвеца-для-других). Этот «куркуль» умер давно (а, может быть и на свет появился «мертворожденным»). Он лишь воображает, что жив, ибо не замечает своей «мертвятины». Читатель начинает понимать, что это «мертвая душа» через его собеседника. Но, жив ли тот сам – мы так и не узнаем! Василий Макарович пишет, заканчивая рассказ: «Хозяин бани и огорода засмеялся (о, этот замогильный смех! – Е.С., М. Ч). Бросил окурок, поднялся и пошел к себе в ограду». А в ограде ведь не жилой и теплый дом, а холодная могила. Телесная смерь, если понимать ее, как понимали древние, не более страшная вещь, чем смерть душевная (смерть-для-себя). Страшна всегда духовная гибель. У этого шукшинского сельского жителя, при таком положении в мире, возможно лишь единственное мироощущение – духовного мертвеца… О, что можно было бы сказать, в этой «шкале ценностей» о современных, «постсоветских мертвецах»?!
Деревни начали умирать при Василии Шукшине вместе с городом. Просто в городе смерть – умирание менее заметное явление, чем в деревне. Ведь деревня до сих пор, даже в ХХI веке, так или иначе ассоциируется в сознании русского человека – с Природой. «Мертвое» же на лоне Природы, хорошо заметно. Город, этот железобетонный механизм, мертв по своей конструкции. Жизнь в нем осуществляется по законам механики («оттуда-сюда» и «отсюда-туда»). Русские города, еще недавно, лет 20—25 назад, были связаны с деревнями и селами – духовной связью. Поэтому все, что происходило там, в городе, происходило, в слегка заретушированном виде, и здесь, в деревне.
В «Слове о «малой родине» В. М. Шукшин пишет: «У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе… Я всегда смотрел и думал: «Ну, вот это, что ли, и есть та самая жизнь – так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы – это уже тоже, по-своему, несвобода». Мы понимаем, о какой «красивой» жизни и каком самочувствии здесь идет речь – о европейском типе отношений – человека с собой, другим человеком и, следовательно, жизнью. О, безупречной отточенности и выверенности слов и жестов, не требующих для своей реализации эмоциональных затрат. Вряд ли прав Василий Макарович, называя это «несвободой». Нет, это просто другая свобода другой общности людей, объединенных на определенной части Земли – в Европе («Европа – от Парижа до Урала»… Это крылатое высказывание генерала Шарля де Голля, по меньшей мере, звучит двусмысленно). В Европе своя духовность, своя культура. Просто Шукшин был там, в Европе, человеком со стороны и всецело в своей, собственной духовности, символом которой является крестьянская изба, объединяющая вокруг себя целый крестьянский род. Василий Макарович далее пишет: «В доме деда была непринужденность, была свобода полная… Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там».
А еще читаем: «Изба простолюдина – это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками…
Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок – небесному своду, а матица – Млечному Пути». Но это уже не Шукшин, это – Есенин пишет в «Ключах Марии».
В. Ходасевич в своем «Некрополе» обосновывает свое «предчувствие» самоубийства Сергея Есенина, логикой тупика, в котором оказался поэт, идеализируя избяную Русь. Он пишет в заключении: «История Есенина есть история заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую верил он, не было. Грядущая Инония, которая должна была сойти с неба на эту Русь, – не сошла и сойти не могла. Он поверил, что большевистская революция есть путь к тому, что „больше революции“, а она оказалась путем к последней мерзости – к нэпу (ха-ха – вот сейчас, в постсоветской России, мы видим „свинцовые мерзости жизни“, о которых пророчески говорил А. М. Горький! – Е.С., М.Ч.) … Горе его было в том, что он не сумел назвать ее: он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Руссию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Рассею, пытался принять даже С. С. С.Р., – одно лишь верное имя не пришло ему на уста: Россия». «Есенин прозрел окончательно, но видеть того, что творится вокруг, не хотел. Ему оставалось одно – умереть».
Вот так – от избы к мечте и, дальше, к… смерти…
И Шукшин, выходит, тоже был за «избяную Русь»? Но зададим и мы себе наивный вопрос: «А можно ли вернуться к нему, такому самочувствию в жизни, которое царило в крестьянских избах?» Ведь, действительно, какой русский человек не тоскует в душе о нем, этом самочувствии, если в душе своей он мужик?! Но, будучи реалистом, В. М. Шукшин создает другие образы сельской жизни и другой тип отношений, который так же далек от жизнеустройства русского крестьянина (дедов наших), как и Де Голль’евский Европейский жизненный уклад (общий европейский дом?). Для примера возьмем один из наиболее сильных, для принципиального понимания В. М. Шукшина и его героев, рассказ «Срезал». Но вначале сделаем некоторое отступление.
В. М. Шукшин в творческих поисках первооснов русской духовности12 уходит в прошлое Руси, которое весьма трудно определить во времени. Здесь также трудно ответить на вопрос – «Когда это было?», как и на вопрос «откуда есть пошла Русь?» Когда царил Лад на нашей земле?
Василий Иванович Белов прекрасно описал такое идеальное жизнеустройство русского крестьянина, о котором в постоянной тоске и душевном поиске проживают жизнь герои Василия Макаровича и, прежде всего, конечно, Степан Разин и Егор Прокудин. Да и многие, многие другие, вплоть до «крепкого мужика» Шурыгина и «вечно недовольного» Яковлева. «И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу». Так пишет Шукшин. Но когда-то, о чем тоскует русская душа, было не только в ней одной, не в пределах нашей духовности, а наяву, на Земле, на нашей Земле? Не является ли Лад некоей конструкцией русского (да и, сугубо ли русского?) сознания, отражающей извечную потребность (витальность, как говорили все те же древние греки) в духовной изначальности? У Николая Рериха мы это находим, как его нравственный императив, как то, что должно быть (хотя бы там, где-то высоко-высоко, далеко-далеко, в вечных и снежных вершинах Гималаев). А. В. Кольцов воспел такую крестьянскую жизнь, радость труда пахаря и общения с родной природой («Не шуми ты, рожь», «Песня пахаря», «Косарь», «Лес» и др.). И когда? Когда на дворе было крепостное право! Кольцовский «Лад» был лишь в душе деревенского жителя. Крепостника и крепостного одновременно? Возможно – как их «витальное» самочувствие, мироощущение13.